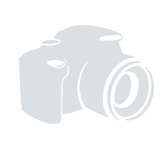Расстрига
Леха был правильным пацаном. После ПТУ шабашил на стройках, не дурак был выпить и подраться, но матери и сестрам деньгами помогал.
Ему уже стукнуло хорошо за тридцать, когда в их строительной бригаде появился Сыч. Точнее, Константин, но работяги вскоре прозвали его Сычом. Странный он был парень. Высокий, плотный, с волосами, собранными в хвост на затылке, всегда смурной. Отказывался от курева и вина, бубнил чего-то себе под нос и совсем уж не выносил мужских разговоров про женский пол – краснел, бледнел, а то и вовсе уходил подальше.
С ним было трудно общаться, а еще труднее – работать, потому что работал он честно. Вся бригада спешит кое-как закончить объект и смыться с участка, а из-за Сыча приходится вкалывать до заката – потому что он по правилам замешивает раствор и дожидается полного высыхания. Чудика пытались бить, но драки как-то не получалось, он всегда умудрялся избежать разборок.
Озверев, бригада пошла к прорабу Михалычу с требованием убрать это чудо-юдо. Мол, не наш он совсем, да и работает плохо. Но Михалыч отмахнулся: "Хватит бухтеть, мужики! Костя – самый правильный из вас, просто несчастье у него. Не повезло парню… а всё эти, будь они неладны, попы".
Леху эта новость прямо-таки поразила. Что за попы, что за чепуха? Просто у Сыча с головой не в порядке. Но все-таки он загорелся про этих попов узнать подробнее, вытянуть из Кости его историю. Зачем? А чтобы потом всей бригадой посмеяться.
Так бы все это и оставалось в планах, но случай подвернулся сам. Стояла Светлая Седмица (о чем никто из работяг и не задумывался) – и тут вдруг Сыч явился на объект с подарками! Каждому в бригаде вручил он по куличу и паре крашеных яиц, а вдобавок спел что-то церковное. Тут-то над ним и заржали. Только недолго – увидели его глаза, потемневшие от гнева. Сыч переменился вмиг. Начал кричать, обзывать богохульниками – а после неожиданно расплакался. Встал на колени, произнес: "Простите, братья, меня окаянного!", вытер слезы рукавом и побежал на выход. А мужики сидели как пришибленные.
Вот тут Леха и осознал: Сыча спасать надо! Человек ведь, жалко его!
И он начал действовать. Взял в конторе у Михалыча адрес Кости – тот, оказалось, не имел своего жилья, снимал комнатку у кладбищенского сторожа. В сторожке Леха Сыча не застал, зато пообщался со сторожем. Звали его Женька, был это пожилой дядька, большой любитель поддать. Леха поставил выпивку – и за рюмкой вина узнал немало интересного о Косте.
Оказалось, он – расстрига. Что это значит, Леха понимал не вполне, даже думал, уж не охотятся ли за Сычом менты? По Женькиным словам, приехал Костя откуда-то из Костромской области, о себе говорил мало, все больше книжки читал, особенно ту, что в черном переплете и с крестом. Да еще постоянно молился и плакал. А то вдруг нехило поддавал, ходил к какой-то путане, на которой думал жениться. Потом на несколько дней пропадал, и вновь по кругу: молитвы, книжки, рюмка… В церковь тоже ходил, но изредка.
Пока ошарашенный Леха переваривал эту информацию, пришел и сам Костя-Сыч. Сел к ним, молча налил себе стопку – и начался долгий разговор. Сторож Женька, впрочем, быстро вырубился, а Леха с Сычом сидели до утра.
Оказалось, Сыч верил в Бога – по-настоящему, серьезно. С юности мечтал стать монахом, и стал – получил благословение своего духовника, в 18 лет поехал в монастырь под Калугой, был трудником, послушником, а в 25 лет принял постриг. И все до поры до времени было у него хорошо: молился, трудился, как и все. А потом что-то с ним стряслось. "Бес попутал", пояснил Костя. Он стал дерзить игумену, братии, пропускал службы. Однажды сбежал из обители и пошел к девице легкого поведения. Переночевал у нее, вернулся в монастырь. Там игумен его наказал, и вроде бы подействовало, Костя опомнился, и целый год все было хорошо. А потом все пошло по новой. После дикого скандала с игуменом он сказал, что не хочет больше быть монахом. Ему дали время, много времени, с ним беседовали старцы – но Костя их выгонял, оскорблял. За него молились – но это не шибко помогало. И тогда его расстригли. Он перестал быть монахом и не мог больше оставаться в обители. Ему дали денег на дорогу и молитвенник – и Костя ушел в мир. А в миру все завертелось. Ни дня без выпивки и женщин. Ни дня без слез, когда хмель сойдет, а совесть проснется.
Костя начал ездить по разным монастырям, просился в послушники, его принимали – но спустя пару дней или приходилось его выгонять, или он сам уходил. Постепенно по обителям и вовсе пошла о нем недобрая слава. Расстрига – это как клеймо. Как с этим жить, он не знал. Вписаться в мирскую жизнь, стать обывателем у него тоже не получалось. Заработать денег он мог, мог обзавестись имуществом, жильем – но постепенно начал осознавать, что все это ему не слишком нужно. То время, которое он провел в монашестве, не прошло ведь для него бесследно. Он видел и чудеса, совершаемые по молитвам старцев – как исцелялись алкоголики, как у бездетных родителей рождались дети. Многое он видел. Глубоко веровал. И предал.
Лехе в диковинку было все это слышать, особенно про чудеса. Вот бы встретиться с такими старцами, подумалось ему вдруг. Тогда, возможно, он и пить перестал бы, и работу себе нашел получше, и семьей обзавелся. И вспомнилось ему разное: покойный отец, смертным боем избивавший мать по пьяни, загулы старшей сестры, вечный поиск денег на выпивку. Стало ему горько – и тут он сам заплакал, как совсем недавно Сыч.
А тот принялся утешать Леху, бубнил что-то. Они обнялись как собутыльники – и оба уснули. Утром в сторожке Сыча не оказалось – Женька сказал, что тот в город поехал, в храм. Леха кивнул и поехал на стройку.
Но все уже было как-то не так. Обрывки ночных разговоров с Сычом не выходили из его головы, и это заметили в бригаде, принялись шутить: уж не заколдовал ли тебя Сыч?
Прошло несколько дней. Леха, протрезвев, пытался заговорить с Костей, но тот на разговоры не велся, а вскоре и вовсе заявил, что бросает работу и уезжает далеко.
И вот тут-то Леху что-то подтолкнуло: он попросился с Сычом за компанию, и тот, странное дело, не отказал.
Они поехали на остров Валаам, о котором раньше Леха и понятия не имел. Устроились в монастырь трудниками. Поначалу было очень непривычно. С одной стороны, вкусная еда, пироги с грибами и ягодами. С другой – и это Леху сильно напрягало! – никакого вина. Однако понемногу он втянулся.
Началась у него какая-то другая жизнь. Убирали картошку, помогали на кухне, работы было глаз не поднять. Зато чувства после этой работы были совсем другие, чем раньше, на шабашках, где заколачивал он немалые деньжищи. А тут бесплатно – но почему-то радостно. Недалеко лес, красота неописуемая. Монахи, молодые и старые, с добрыми лицами, всегда готовы помочь. Будто в семью попал!
А вот с Костей-Сычом было неладно. Из храма тот всегда выходил в слезах, ничем не мог утешиться. Лехе так жалко его стало, что пошел к старому монаху, которого называли прозорливым. Рассказал ему все, что знал о Сыче, спросил – как же ему помочь? Может, обратно в монахи принять, чтоб не мучился? Старец улыбнулся в бороду, а потом серьезно сказал: "Не о Сыче ты сейчас должен думать, а о своих грехах. А Константина поблагодари за то, что открыл тебе себя самого. И молись за него. Может, Господь и смилуется, как над апостолом Петром. Богу все возможно".
Леха понял одно: назад Сыча не примут, и начал возражать: как же так? Погибает же человек. И тогда старец произнес печально и твердо: "Он сам оставил Христа, сынок. Насильно ко Христу никого привести нельзя".
Только тут до Лехи дошел весь ужас драмы Сыча. Тот потерял всё. Остался совершенно один. Тем более нельзя его бросать! А что можно сделать? Старец советовал молиться, но как? Леха ведь не монах, не умеет…
…Пролетело два года. Вместе с Сычом Леха трудился в монастыре, научился молиться утром и вечером, ходил на церковные службы, исповедовался и причащался… и как-то вдруг понял, что хочет стать монахом и остаться здесь, на острове. О том, чтобы вернуться к прежней беспутной жизни, уже и помыслить не мог. Его благословили принять иноческий постриг, только не на Валааме, а в другом монастыре, в глубинке, куда Леха вскоре и уехал.
Теперь он уже не Леха, а инок Леонид.
Что же до Сыча, тот остался трудником на Валааме – хотя, быть может, там его сейчас уже и нет. Через несколько месяцев после отъезда инок Леонид получил от него открытку, где написано было только "Слава Богу, я жив". Что это значит? Быть может, он был прощен и трудится где-нибудь во славу Божию? Не зря же Господь свел его на жизненном пути с Лехой…
Дата: 09 ноября 2016